Жизнь Винницы в послевоенные годы (ч.3)
Отрывки романа "Белая голубка Кордовы" (автор Дина Рубина), в котором очень красиво, с завораживающей точностью деталей, описана жизнь нашей Винницы в конце 40-х годов ХХ века.
В этой части мы переносимся в Винницу начала 60-х годов
...По субботам мальчик ходил с дядей Сёмой в баню, ту, что на
Замостье. Через мост с лязгом тащился трамвай, но они с дядей
Сёмой топали пешком, с чемоданчиком, в который тетя Лида
складывала чистое белье. В бане можно было снять отдельный
номер, но они с дядей Сёмой всегда мылись в общем зале – не из
экономии, просто так веселее, всегда можно перекинуться словом
со знакомыми. По субботам мылись и дядя Шайка, и старый
Глейзер, и огромный Трейгер, у которого так же равномерно, как
нижняя губа, ходил на шарнирах меж ногами дряблый толстый
шмат.
Сначала они получали в общем зале шайки и ключ от шкафчика,
который Зюня сразу надевал на шею. Раздевались и голые
ковыляли (дядька без ортопедического ботинка – в нем не
помоешься – страшно кренясь на сторону, вынужденный
опираться на худое мальчишеское плечо) – в зал, где дядя Сёма
валился на мраморный полок, а Зюня бежал с шайкой к холодному
и горячему кранам. Поочередно их открывая, наполнял шайку и
рьяно дотошно скреб жесткой мочалкой дядю – его больную ногу,
свисающую жгутом, сутулую спину… После чего наступало самое
страшное и ненавистное: мытье Зюниной вихрастой головы,
непременно горячей-горячей водой.
– А как иначе! – приговаривал дядя Сёма, не обращая внимания
на вопли мальчика, окатывая того кипятком, – чисты волосы будут
только от горачей, исключительно от горстей!
Надо было еще сопровождать дядю в ад: в тусклую кабинку
парной, из которой струями и клубами – только дверь откроешь –
вываливался раскаленный пар. Дядя укладывался на одну из
полок и там блаженно замирал, как старая черепаха. А мальчик
выскакивал, чтобы минут через двадцать, вдохнув поглубже,
нырнуть в раскаленное озеро пара, нащупать тряпичного мягкого
дядю Сёму и тащить его прочь, наружу…
После того как одевались и выходили из банного зала, дядя Сёма
с друзьями перемещались в просторную общую залу, где, помимо
парикмахерской, была буфетная стойка с несколькими стоячими
одноногими столиками и висели две ослепительные картины:
Шишкин, «Утро в сосновом бору», и Репин – «Бурлаки на Волге»,
досконально изученные мальчиком: дядя Сёма меньше чем часа
на полтора возле столика не застревал – что может быть лучше
«жигулевского» после баньки?
И впоследствии, когда Захар уже учился в художественной школе,
он по памяти воспроизвел в наиточнейших деталях и ту и другую
прославленные картины акварельными красками, так что
преподаватель Юрий Петрович Солонин, тот, что гнусавым
голосом приговаривал на уроках: «Ты плох-та не делай, плох-та
само получится…» – посмотрел на него долгим взглядом и понес
обе картинки куда-то кому-то показывать, должно быть, в
учительскую.
Был Юрий Петрович любителем поучительных притч и баек из
жизни художников. В его рассказах Репин, Суриков, Шишкин и
Айвазовский выходили большими затейниками, мудрыми
озорниками, умельцами и хитрованами.
– …И служил молоденький Василий Иваныч Суриков в Енисейском
губернском управлении ма-аленькой сошкой, ничтожным
канцелярским подай-принеси. Бумаги на подпись губернатору
носил. Тот на парня даже головы не поднимал, не замечал, и все
тут! Э-э-э, подумал Василий Иваныч, – я те такое смастачу, ты на
меня таки глянешь, не удержишься. И нарисовал на каком-то
прошении… муху! Обычную муху, как она есть: крылышки
сквозные, лапки тонюсенькие… Подносит губернатору прошение с
мухой, а тот: мах! – и Юрий Петрович с брезгливой миной делал
кистью руки смахивающий жест: – мах! Не улетает, чертовка! Что
такое?! К листу она, что ли, прилипла?! Пошла, пошла, зараза!..
Не улетает! Как сидела, так и сидит. Только тогда поднял голову и
в упор на парня взглянул. Разгляде-е-ел все-таки!
То ли под впечатлением этих рассказов о мастеровитых шутниках,
а может, самому в голову пришло – однажды Захар предложил
Косте Рогожину, который ужас как боялся экзамена по
математике, для жалости разрисовать его синяками и
кровоподтеками.
И лично Юрий Петрович, сочувствуя парню, в тот день отпустил
Костю лечиться. А когда тот, лукаво-торжествующий, явился
домой, то с маманей, открывшей ему дверь, приключилась
истерика. «Не стану, не стану мыться! – счастливо повторял
Костя. – Это ж какая выгода! Захарыч, вот тут кровищи мне
подбавь, а?!»
Так началась его художническая слава. В школе, бывало, на
живописное членовредительство очередь выстраивалась:
малевались до начала уроков на широком подоконнике, в туалете.
Тут же у Захара лежали на газете краски и карандаши, в стакане
стояли наизготовку две-три кисточки. Каждый выбирал себе
увечье по своему вкусу, то, что считал наиболее убедительным.
– Следующий, – деловито говорил Захар, полоща кисточку после
изображения страшного кровоподтека.
– Глаз! – подобострастно просил «следующий». —
Захарыч, нарисуй, шоб аж заплыл весь: нет мочи на доску зырить,
и все!
А однажды старшеклассник, забежавший в туалет по малой нужде
и застрявший при виде этих живых фресок, вдруг с интересом
спросил Захара:
– А носки умеешь изобразить? Я сегодня телку в кино веду, а дома
двух одинаковых не нашлось, – и вытянул босую несвежую лапу
из растоптанного ботинка: – серые, а? в черный рубчик…
…Художественная школа располагалась в красивейшем особняке
стиля «модерн». Больше всего Захар любил круглый стеклянный
фонарь, в котором обустроили библиотеку. Занятия проходили
трижды в неделю, по четыре часа, и трижды в неделю он брал в
библиотеке «что-то про художников», успевал прочитать до
послезавтра, или до после-послезавтра, приводя дядю Сёму в
бешенство: «Не давай ему столько читать! – кричал он своей
легкомысленной племяннице. – Парень глаза себе портит, а ей всё
плевать!»
Маме, конечно, не было «всё плевать» – просто она тренировала в
«Авангарде» своих девочек до позднего вечера. Или возила их на
соревнования и тогда вообще исчезала на неделю. Приходила
поздно, с непросохшими после душа волосами, целовала сына,
отнимала у него книгу, гасила свет и валилась рядом. Они
обнимались и засыпали…
...Вообще бабка с внуком говорили на каком-то смешном
прибауточном языке, в отличие от отца, Казимира Модестовича –
тот работал инженером на электростанции и дома бывал редко:
неделями жил у какой-то женщины на Замостье, которую бабка с
Андрюшей называли не по имени, а просто зазнобой. Появляясь в
маленькой хатке, он производил впечатление слона в посудной
лавке, и что-то непременно ронял, ахал, руками всплескивал,
поворачивался и смахивал с полки, разбивал окончательно; или
наступал на одного из белоснежных сказочных котов, которых и
звали-то по-человечьи: Ваня – Маня – Сидор.
В сарайчике во дворе у Андрюши и Бабани хранились залежи
старых вещей, но не обычного барахла, какое складывают в
сараи, жалея выкинуть на помойку, в надежде, что старый диван с
торчащими пружинами или кресло-качалка с отломанной ручкой
еще ничего и когда-нибудь пригодятся на даче. Нет, это были
вещи удивительные: старинные, застрявшие на половине
четвертого, часы с бессильно обвисшими чернеными еловыми
гирями, труба граммофона, трехногое бюро с полузатертыми
картинками на крышке, расписная деревянная шкатулка с
облезлыми боками, но до сих пор издающая удивленный обрывок
хриплой мелодии; большой медный колокол с тиснеными
фигурами летящих пышнозадых ангелов; королевского вида трон
с выдранной из сиденья обивкой…
Вдоль стен стояли старые рамы, а в них – то полуслепая картина,
то мутное, будто озеро в ряске, зеркало. Это хромоногое увечное
воинство ждало своего часа. Все это надо было починять-
починять… А Бабаня оказалась не просто веселой старой ведьмой,
а реставратором, и в молодости, еще до первой мировой, училась
в Варшаве. Сейчас она вволю занималась, чем душа велит,
реставрируя найденные или выкупленные за гроши антикварные
вещи; иногда только брала от организаций интересные заказы.
Например, добавил Андрюша, недавно работала секретер XVIII
века из дома-музея Пирогова, и он, Андрюша, помогал. Ей-богу!
Они теперь проводили вместе любую свободную минуту. Все стало
общим, иногда даже мысли: как заметишь милиционера
Перепеленко, с его грозной, полной семечек, кобурой,
переглянешься и одновременно выпалишь: «Хлопци, клешню
подставляй!».
И драться рядом сподручнее: то было время, когда шли войной
улица на улицу, сражались жестоко – палками, кирпичами. Вот
тогда очень важно, кто тебя со спины прикрывает. Опять же
ценно, когда играешь с другом в одной футбольной команде.
Андрюша, правда, бегать долго не мог: все лицо обсыпало мелким
бисером пота, а губы становились пепельными, и он все норовил
посидеть или даже полежать на травке. И Захар терпеливо ждал
рядом, пока тот отлежится…
Часто они отпивались на Иерусалимке: неподалеку от
Первомайской был парчок, где собирались пацаны для игры в
цурки-балан: ставилась на кирпичи банка, в нее, как в городках,
кидали палкой, стараясь сбить.
Летом же пропадали на Южном Буге. Там под крутым обрывом
тянулся дикий травянистый пляж с тинистой водой и зарослями
камыша. Сидели с удочками рыбаки, висели на нежном
неугомонном моторчике серые глазастые стрекозы, всплескивали
на солнце желтые и белые капустницы. А можно было смотаться
на Кумбары – на другой пляж, городской, песчаный – культурный;
с островом, соединенным с Замостьем деревянным мостом. На
острове в дощатых будках продавали лимонад, пиво, пирожки и
пряники.
От пристани, что у самого моста, соединяющего Замостье со
старым городом, вверх по течению ходил в Стрижевку речной
пароходик – туда многие винничане, прихватив палатки и
спальные мешки, ездили в кемпинги – отдыхать. А вниз по
течению Буга ходил к Сабаровской ГЭС другой пароход.
Если от моста идти влево, добредешь до холма, где сохранились
несколько древних покосившихся надгробий какого-то странного-
иностранного кладбища. Некоторые надгробия вертикальные;
одно вообще в виде ствола с обрубленными ветвями. И выбиты на
них узоры-не узоры, буквы-не буквы, а хотелось сказать…
письмена. Помимо этих письмен, на уцелевших камнях можно
было различить не до конца выветренные подсвечники, листья,
двух оскаленных львов, сцепившихся друг с другом собственными
хвостами, какие-то колонны с кудрявыми навершиями. А на одном
– темно-сером, щербатом, – был выбит отлично сохранившийся
корабль, трехмачтовик! Наверное, под ним лежал какой-то
старинный моряк. Жаль, что невозможно было прочитать – что
написано.
Дядя Сёма, когда Зюня впервые попал туда и вечером
рассказывал о таинственных старинных могилах, хмыкнул и
сказал: еще бы, это старое еврейское кладбище, и надписи тоже
еврейские, есть такой древнейший язык, всем языкам голова.
Зюня спросил: – идиш? Он немного понимал идиш, вообще быстро
хватал иностранные слова, хотя мама терпеть не могла, когда баба
Нюся принималась говорить с ней или дядей Сёмой по-малански.
– Нет, – хмуро ответил дядя, провожая взглядом маму, которая
отправилась в кухню отсыпать себе из «мыски» тыквенных
семечек. – Другой совсем язык, очень древний, на нем Библия
написана.
– Библия-шмиблия! – крикнула из кухни мама. – Твои
стариковские дела!..
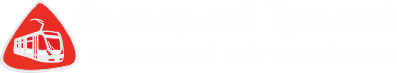



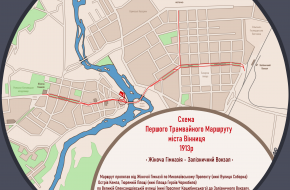











Коментарі
Что там говорить - Винницу надо смотреть. В 1983-м году посмотреть. Это был таки рай. Зажиточные граждане, непрерывно что-то строящие и закатывающие в банки. Эти рыбалки на Бугу и лесных ставках, эти приятной внешности и хорошо одевающиеся винничанки. И пиво на всех перекрестках (на Вишенке), и какое пиво! Не то, что теперешние консервы из порошка. А какой энергией дышали тетки с окрестных сел! И чего только не было в Виннице тех лет! Грустно вспоминать, громодяне, за то, что мы имели и не ценили. Имели и потеряли. Какая это была человечная, человеческая семья, наша теплая Винница.
Прости нас, земля родная.
Многие вспминают Винницу, которой уже нет. И очень жаль что винничане не смогли сберечь город. Ведь даже сегодня мы часто теряем оставшиеся еще где-то частички старой Винницы. Вот дошло дело даже до незыблемого Универмага, который преврятят в уродливую стекляшку. Что следующее потеряем?